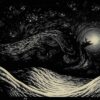Уже сумерки, как дожди.
Мокрый Павловск, осенний Павловск
облетает, слетает, дрожит,
как свеча оплывает.
О август,
схоронишь ли меня, как трава
сохраняет опавшие листья,
или мягкая лисья тропа
приведет меня снова в столицу?
В этой осени желчь фонарей,
и плывут, окунаясь, плафоны,
так явись, моя смерть, в октябре
на размытых, как лица, платформах,
а не здесь, где деревья ― цари,
где царит умирание прели,
где последняя птица парит
и сползает, как лист, по ступеням,
и ложится полуночный свет
там, где дуб, как неузнанный сверстник,
каждой веткою бьется вослед,
оставаясь, как прежде, в бессмертье.
Здесь я царствую, здесь я один,
посему ― разыгравшийся в лицах ―
распускаю себя, как дожди,
и к земле прижимаюсь, как листья,
и дворцовая ночь среди гнезд
расточает медлительный август
бесконечным падением звезд
на открытый и сумрачный Павловск.
Мокрый Павловск, осенний Павловск
облетает, слетает, дрожит,
как свеча оплывает.
О август,
схоронишь ли меня, как трава
сохраняет опавшие листья,
или мягкая лисья тропа
приведет меня снова в столицу?
В этой осени желчь фонарей,
и плывут, окунаясь, плафоны,
так явись, моя смерть, в октябре
на размытых, как лица, платформах,
а не здесь, где деревья ― цари,
где царит умирание прели,
где последняя птица парит
и сползает, как лист, по ступеням,
и ложится полуночный свет
там, где дуб, как неузнанный сверстник,
каждой веткою бьется вослед,
оставаясь, как прежде, в бессмертье.
Здесь я царствую, здесь я один,
посему ― разыгравшийся в лицах ―
распускаю себя, как дожди,
и к земле прижимаюсь, как листья,
и дворцовая ночь среди гнезд
расточает медлительный август
бесконечным падением звезд
на открытый и сумрачный Павловск.